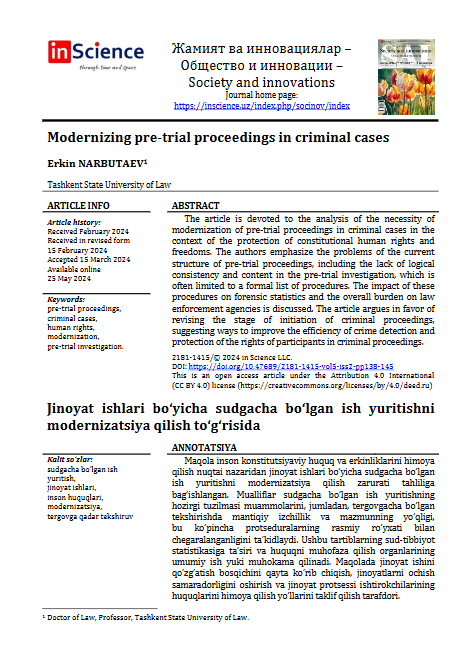Аннотация. Статья посвящена анализу необходимости модернизации досудебного производства по уголовным делам в контексте защиты конституционных прав и свобод человека. Авторы подчеркивают проблемы текущей структуры досудебного производства, включая отсутствие логической последовательности и содержательного наполнения в до следственной проверке, которая часто ограничивается формальным списком процедур. Обсуждается влияние этих процедур на судебно-следственную статистику и общую нагрузку на правоохранительные органы. Статья аргументирует в пользу пересмотра стадии возбуждения уголовного дела, предлагая пути повышения эффективности раскрытия преступлений и защиты прав участников уголовного процесса.
Ключевые слова: досудебное производство, уголовные дела, права человека, модернизация, до следственная проверка.
Закрепление конституционных механизмов обеспечения прав и свобод человека, воплощающие в себе практически все современные способы защиты прав человека и гражданина, в том числе переступившего закон, от любого произвола со стороны государственных органов, должностных лиц обусловило необходимость модернизации стадии досудебного производства. Системный анализ институтов досудебного производства показывает, что в структурном плане они, не обеспечивают логическую преемственность и взаимообусловленность и скорее представляют форму, чем содержание досудебного производства, которое заключается в доказательстве и выяснении обстоятельств, подлежащих доказыванию. Важность до следственной проверки заключается в установлении оснований, то есть сбора данных, указывающих на наличие признаков преступления. Путем до следственной проверки осуществляется «отсев «материалов, не имеющих судебной перспективы, и тем самым регулируется рабочая нагрузка правоохранительных органов. До следственная проверка рассматривается и как способ упреждения возможных нарушений прав лиц, вовлечённых уголовно-правовой оборот, и увеличение статей судебных издержек. Это, с одной стороны. С другой, до следственная проверка, будучи ограниченной перечнем процессуальных действий, не может претендовать на полноценную стадию досудебного производства. Рамочное положение стадии возбуждения уголовного дела сужает оперативный простор лица, на которое возложено производство до следственной проверки. Более того, выбор в пользу возбуждения либо отказа в возбуждении уголовного дела, в свою очередь, позволяет корректировать судебно-следственную статистику о криминогенной ситуации в обществе. Стадия возбуждения уголовного дела, которая, будучи атрибутом изжившей модели уголовного производства препятствует эффективному решению задач по-быстрому и полному раскрытию преступлений, изобличению виновных и обеспечению правильного применения закона.
Первое–законодатель стадию возбуждения уголовного дела представляет в виде до следственной проверки, когда при необходимости проверяется законность повода и достаточность оснований к возбуждению уголовного дела непосредственно либо с помощью органов дознания не позднее десяти суток, и без производства до следственной проверки, когда заявления, сообщения и иные сведения о преступлениях рассматриваются немедленно (ст. 329 УПК). При этом в ходе рассмотрения заявлений, сообщений и других сведений о совершении преступлений не уточняется, в отношении каких случаев следует проводить до следственную проверку, а какие не требуют такой процедуры. Ведь по результатам немедленного рассмотрения может быть принято одно из решений, предусмотренных ст. 330 УПК, в том числе об отказе в возбуждении уголовного дела. Примечательно также то, что до следственная проверка обусловлена лишь необходимостью рассмотрения заявления, сообщения и иных сведений о преступлениях в пределах десяти суток, а в исключительных случаях на основании постановления дознавателя или следователя срок до следственной проверки может быть продлен прокурором до одного месяца. Законодатель предписывает исчислять эти сроки с момента получения сведений о преступлениях и до момента принятия решения о возбуждении дела или об отказе в возбуждении. Однако сроки до следственной проверки, как убеждает практика, относительны во временном и содержательном плане и объясняются издержками производства тех или иных процессуальных действий и видом уголовного правонарушения. Временные пределы и ограниченность перечня процессуальных действий в ходе до следственной проверки не всегда позволяют в достаточном объеме восстановить картину содеянного и позволяют принимать подчас не столь обоснованные решения по итогам рассмотрения заявления, сообщения и иных сведений о преступлениях.
Второе–не определен статус и порядок производства процессуальных действий, разрешенных в ходе до следственной проверки, а именно: истребование дополнительных документов, объяснений, задержание лица, а также осмотра места происшествия, назначение экспертизы, ревизии, следственного эксперимента в рамках производства судебной экспертизы, которые законодателем отнесены к разряду следственных действий. Однако они не могут быть возведены в этот ранг по причине их производства до возбуждения уголовного дела, когда на лиц, производящих до следственную проверку, не возлагается обязанность соблюдать процессуальные формальности. Сведения, полученные без соответствующего процессуального оформления, не подлежат использованию в виде доказательства. Поэтому процессуальная природа данных, установленных в ходе до следственной проверки, указывающих на наличие признаков преступления, и правомерность принятия решения о возбуждении уголовного дела или отказе в возбуждении, а в последующем в подозрении лица в совершении преступления и предъявления ему обвинения с точки зрения допустимости доказательств вызывает сомнения. Весьма проблематична в этом контексте и применимость сведений, добытых оперативно-розыскным путем, то есть документов, представленных сотрудниками органов дознания, о вовлечении которых в проверку законности повода и достаточности оснований к возбуждению уголовного дела упомянуто в ч.2 ст.329 УПК.
Третье–противоречивые по содержанию положения, регламентирующие порядок возбуждения уголовного дела, осложняют правоприменительный процесс, поскольку, с одной стороны, законодатель обязывает следователя и дознавателя направлять прокурору копию постановления о возбуждении уголовного дела, которое может быть отменено в случае признания его незаконным. С другой, предписано немедленно вслед за возбуждением уголовного дела должно быть начато предварительное расследование и приняты меры к пресечению длящихся и предотвращению повторных преступлений, а равно закреплению и охране следов преступления, предметов и документов, имеющих значение для дела. Если же прокурор отменит постановление о возбуждении уголовного дела, то действия следователя и дознавателя, то произведенные следственные действия окажутся за рамками закона. Обжалование решения прокурора и процедура ее рассмотрения не восполнит упущенное время и возможности пресечения преступления и закрепление следов преступления.
Четвертое–при решении вопроса о возбуждении уголовного дела отдается предпочтение не поводу к возбуждению уголовного дела, а основаниям. Законодатель предлагает критически оценить изложенные в заявлении или сообщении факты о преступлениях путем до следственной проверки, и в случае сбора данных, указывающих на наличие признаков преступления, вынести постановление о возбуждении уголовного дела. Но отсутствие повода к возбуждению уголовного дела исключает до следственную проверку. Следовательно, на стадии возбуждения уголовного дела повод к возбуждению есть константа, и проверка изложенных в заявлении или сообщении сведений о преступлении до следственным либо предварительным расследованием, на первый взгляд, не столь важна. Вместе с тем, установление оснований для возбуждения уголовного дела, то есть данных, указывающих на наличие признаков преступления, является важной частью до следственной проверки. Однако наличие временных и процессуальных ограничений может препятствовать этому. Поэтому, возбуждение уголовного преследования по каждому поводу без предварительной проверки и доследования фактов, изложенных в заявлении или сообщении о преступлении, а также прекращение уголовного производства, если не установлены данные, указывающие на наличие признаков преступления, хотя и повлияет на судебную статистику, позволит избежать злоупотреблений при возбуждении уголовных дел. Досудебное производство усложняется также его дифференциацией на предварительное следствие и дознание, которые наряду с до следственной проверкой представляют один из его форм. Однако в УПК установлена зыбкая грань между ними, которая размывается предписанием о производстве до следственной проверки и дознания не только органами, на которых возлагается их производство ввиду подследственности, но и дознавателем, следователем, а также прокурором. Законодатель закрепил ступенчатую модель предварительного расследования, когда определен перечень органов, которые вправе проводить только до следственную проверку; перечень органов, которые вправе проводить до следственную проверку и дознание; прокурор и следователь правомочных осуществлять производство до следственной проверки, дознания и предварительного следствия. Прослеживается процессуальная преемственность между формами предварительного расследования. В частности, до следственная проверка включает в себя мероприятия по проверке заявлений, сообщений и иных сведений о преступлениях, а также принятие мер по закреплению и сохранению следов преступления, предметов и документов, имеющих значение для дела. Отсюда до следственная проверка расценивается как подготовительный этап к началу дознания и следствия, которые отличаются друг от друга сроками и подследственностью расследуемых уголовных дел. В свою очередь, возложение на органы, перечень которых дан в ст. 39-прим УПК принятие мер, в том числе с использованием научно-технических средств, в целях обнаружения признаков преступления и лиц, его совершивших, выявления данных, которые могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу привязывает дознание и следствие до следственной проверке. Поскольку в случаях, когда возникает необходимость дознаватель или следователь вправе давать письменные поручения о выполнении оперативно-розыскных мероприятий органам, осуществляющим до следственную проверку или оперативно-розыскную деятельность, а также исполнение постановлений о задержании, приводе, розыске лиц, требовать от них содействия в производстве отдельных следственных действий. Следовательно, до следственная проверка предусматривает достаточно широкий спектр действий: а) возбуждение уголовного дела; б) производство следственных действий; в) принятие необходимых мер с использованием научно-технических средств; г) выявление данных, которые могут быть использованы в качестве доказательств вследствие проведения оперативно-розыскных мер. Тогда, как дознание и следствие ограничено рамками производства следственных действий. Ибо они, по сути, есть стадии процессуального оформления подозрения и обвинения в совершении преступления различной тяжести, приостановления, возобновления и окончания предварительного следствия в виде прекращения уголовного дела либо направления его в суд. На фоне расширения полномочий по защите становится всё более заметной громоздкость и организационная уязвимость процессуального механизма, который используется для раскрытия преступлений и изобличения преступников. В связи с этим, с учетом усиления открытости уголовной юстиции и упрощения досудебного производства, а также в контексте усиления состязательности на предварительных стадиях уголовного преследования, система процессуальных действий должна стать более гибкой как в структурном, так и в процедурном аспектах. Акцент на легализацию оперативно составляющих процессуальных действий обуславливает необходимость развития доверительных отношений к лицам, задействанных в осуществление досудебного производства.
Во-первых, закреплено, что некоторые следственные действия (выемка, осмотр, освидетельствование, эксперимент, предъявление для опознания, проверка показаний на месте события, получение образцов для экспертного исследования, эксгумация трупа) производятся с участием не менее двух понятых (ст. 352 УПК). В случае же неучастия понятых при производстве упомянутых следственных действий сведения, полученные в ходе их производства, не могут быть отнесены числу доказательств ввиду несоблюдения требований о допустимости доказательств. Однако при производстве судебных экспертиз, ревизий, прослушивания переговоров, ведущихся с телефонов и других переговорных устройств, участие понятых не обязательно, хотя они входят в перечень следственных действий, предусмотренных. 87 УПК. На первый взгляд, это объясняется процедурными особенностями производства экспертиз и ревизий, а равно прослушивания переговоров, ведущихся с телефонов и других переговорных устройств. Тогда присутствием гражданских лиц, не заинтересованных в исходе дела и вполне способных удостоверить факт производства следственного действия, его хода и результатов (в частности, при эксгумации трупа присутствуют представители органов здравоохранения, места захоронения, врач –специалист или эксперт, родственники усопшего), либо возможностью производства других следственных действий в целях устранения сомнений (к примеру, назначение судебной экспертизы в случаях установления недостоверности хода и результатов освидетельствования или же получения образцов для экспертного исследования) можно объяснить несостоятельность участия понятых при производстве следственных действий, упомянутых в ст. 352 УПК. Сохранение института понятых означает сохранение искусственного барьера для осуществления уголовного преследования, неоправданного как с точки зрения производства неотложных оперативно-следственных действий, так и процедуры их производства. С участием или же без участия понятых, которые, как правило, выполняют миссию «страховщика», вероятность фальсификации результатов высока при производстве практически всех следственных действий. И, как предусмотрено ст. 94 УПК, в подобных случаях «проверка состоит в собирании дополнительных доказательств, которыми могут быть подтверждены или опровергнуты проверяемые доказательства», то есть достоверность производства и результатов следственного действия могут быть проверены производством дополнительных следственных действий. Институт понятых сужает сферу принятия необходимых мер с использованием научно-технических средств в целях обнаружения признаков преступления и лиц, его совершивших, выявления сведений, которые могут быть использованы в суде в качестве доказательств, а также сдерживает расширение оперативно-розыскных возможностей. Декларативность нормы, регламентирующей вовлечение граждан в качестве понятых, превратила их участие в уголовном процессе скорее всего в формальность. Таким образом, атрибут советской системы досудебного производства мутирует, преобразовываясь в институт материально стимулируемых штатных понятых.
Во-вторых, законодатель, определяя виды доказательств в ст. 81 УПК неоднозначно изложил диспозицию ее второй части, признав доказательствами протоколы следственных и судебных действий наряду с показаниями свидетеля, потерпевшего, подозреваемого и обвиняемого, подсудимого, вещественные доказательства, материалы звукозаписи и кинофотосъемки, которые, как известно, отражаются именно в протоколах следственных и судебных действий. Поэтому протоколы следственных и судебных действий не могут быть признаны видом доказательства ввиду признаниях процессуальной формой данных, имеющих доказательственное значение. Следовательно, показания, материалы звукозаписи, видеозаписи и кинофотосъемки могут быть получены и без соблюдения требований их процессуального оформления, то есть оперативно–розыскным путем. Противоречивы положения ч. 2 ст. 87 УПК, которые наделяют защитника правом собирать и представлять доказательства по уголовному делу. При этом сведения, собранные адвокатом путем проведения опроса лиц, владеющих по делу информацией, и получения письменных объяснений с их согласия, направления запроса и получения справок, характеристик, разъяснений и других документов из государственных и иных органов, а также предприятий, учреждений и организаций отнесены к числу доказательств. То есть сведения, представленные защитником по процедуре сбора, имеют оперативный характер. Приобщение данных собранных защитником к материалам уголовного дела даже при их обязательной оценке в ходе досудебного производства в корне меняет устоявшуюся архитектуру доказательственного права, обесценивая условия отнесения сведений и предметов к числу доказательств только после того, как они будут зафиксированы в протоколах следственных действий (ст. 90 УПК). Кроме того, законодатель, придав иным документам статус доказательства поощряет неограниченность перечня процессуальных действий, производство которых при установлении источников фактических данных об обстоятельствах совершения преступления может иметь значение для правильного разрешения дела. Напротив, неоднозначна выглядит позиция законодателя относительно оценки результатов оперативно-розыскных мероприятий: а)предписывается необходимость соблюдения требований закона при получении сведений для признания их в качестве доказательства; б)признание полученных с соблюдением требований закона сведений в качестве доказательства после проверки на предмет их соответствия нормам уголовно-процессуального законодательства; в)наличие умысла у подозреваемого на совершение преступления, сформировавшегося независимо от действий сотрудников правоохранительных органов или других лиц, принимавших участие в оперативном мероприятии. Законодатель, предусмотрев в диспозиции ч. 3 ст. 81 УПК условия, при соблюдении которых сведения, полученные в процессе оперативно-розыскных мероприятий, могут быть отнесены в качестве доказательств тем самым изначально порождает сомнение в их достоверности. Такая позиция не вписывается в реалии сложившейся действительности. Поскольку по мере развития научного прогресса актуальность использования оперативно-розыскных и необходимых мер в целях обнаружения признаков преступления и лиц, его совершивших при помощи технических средств, повышается. Трансформация цифровых систем в досудебное производство ускоряет переход к его упрощенной форме. В свою очередь, его оперативно-следственная направленность обуславливает необходимость терминологической коррекции относительно понятия «доказательство», ассоциируемое с предварительным следствием, когда фактические данные устанавливаются производством следственных действий и с обязательным соблюдением формальностей при процессуальном оформлении его хода и результатов. Тогда как, во время досудебного производства оперативно-следственного характера, фактические данные скорее всего будут устанавливаться путем сбора данных, которые обретают статус доказательства виновности лица после исследования сторонами обвинения и защиты в суде.
В-третьих, закреплено, что доказывание состоит в собирании, проверке и оценке доказательств с целью установления истины об обстоятельствах, имеющих значение для законного, обоснованного и справедливого разрешения дела (ст. 85 УПК). Истину рекомендовано устанавливать путем производства следственных, судебных действий, а также путем проведения оперативно-розыскных мероприятий (ст. 87 УПК). С одной стороны, конкретный перечень следственных действий и регламентированная процедура их применения обеспечивают прозрачность процессуальных отношений и порядок производства по уголовным делам. С другой, конкретный перечень следственных действий, осуществляемых с соблюдением предписанных законодателем требований их производства, ограничивает возможности участников доказывания и тем самым препятствует установлению истины, поскольку соблюдение процессуального порядка производства по уголовным делам оказывается приоритетнее установления истины об обстоятельствах, имеющих значение. Ко всему, строгое предписание о допустимости тех доказательств, которые собраны в соответствии с условиями, изложенными в ст.92-94 УПК, способствуют дистанцированию оперативно-розыскных и следственных структур уголовной юстиции, обесценивают усилия оперативно-следственной деятельности в установлении истины. Поэтому по мере реализации принципа состязательности и в досудебном производстве необходимость в строгой регламентации перечня следственных действий и порядка их производства отпадет.
Эркин Норбутаев